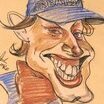Весь контент Маэстро
-
Свободное время в Москве
Вы про что? И трамвай "А" и троллейбус "Б" обычные городские маршруты.
- Про места в автобусе
-
Поиграем в фотозагадки?
Мы не тупые, мы прозападно ориентированные.
-
Поиграем в фотозагадки?
Я только в Киеве и Париже катался на фуникулерах. Значит это Киев!!!
-
Встречи форумчан
Я буду в этом месте в 08.25 и пойду в противоположную сторону. У меня в 09.00 начинаются пары.
-
Поиграем в фотозагадки?
Не Париж, точно. :biggrin:
-
Возможная отмена тура
Угу, есть причины. :scratch: Выглядит очень плохо.
-
Возможная отмена тура
Народ пойдет с мая месяца. Он у нас в основном не заморачивается пока отпуск не подопрет.
-
Возможная отмена тура
Норвегия вообще-то не очень глубоко бронируется, подойдет скоро народ.
-
Парфюмерия в Европе
Я сейчас уже пойду, вы тут беседуйте-беседуйте. А за совет - спасибо, понюхаю в следующий раз в Мюнхене, там не плохой магазинчик у ворот Изатор. :thank_yo:
-
Парфюмерия в Европе
Угу, хорошая вещь, подтверждаю. А вот Diamant, который все хвалят, мне не приглянулся.
-
Парфюмерия в Европе
Я не девочка, но напишу названия: Etoile, Eclat, Ile D'Amour, Juste un Baiser, Emilie, Belle de Nuit, Diamant. Это женские, которые мы нюхали. Взяли из 7- штук три аромата. Мужские уже не нюхали, устал нос. Просто я предпочитаю один единственный аромат Ambre от Балдессарини и больше ничем не пользуюсь.
-
Парфюмерия в Европе
Во Фрагонаре Вам дадут брошюрку с описанием ароматов и дадут попробовать штук семь (не больше, а то нос не выдерживает). Выберите сами. Ароматы очень пристойные, разные, стойкие.
-
Возможная отмена тура
Ну апрельский-то тур поедет, так как он горящий. Если тур стоит в горящих, то его не аннулируют.
-
И снова курс евро
На русском это будет примерно так: "Рубль ведет себя подозрительно, поэтому надо немного подстраховаться."
-
Возможная отмена тура
Да тут и без Екатерины ясно, что беспокоиться не нужно. Март только на дворе. А большинство людей начинают думать о летнем отпуске как только снег сойдет. 17 человек - это много.
-
Необычная коллекция: туалеты
Фотка явно из Интернета. Просто Кучерявый интересуется, есть ли у кого в хорошем качестве.
-
Про места в автобусе
На втором ряду железно нет перегородки, она как раз за ним начинается в любом случае.
-
Про места в автобусе
Рябята, я сейчас сижу на местах за гидом: 2ПП и 2ПО. Никаких доплат не было.
-
Про места в автобусе
Значит надо ... :punish: этих местных.
-
Про места в автобусе
ТТВ не продает места первого ряда слева. В других фирмах это встречается - может быть тур был не от ТТВ?
-
Про места в автобусе
А этих местных надо бы поймать в темном углу :punish:
-
Про места в автобусе
Егор, не было. Это ересь какая-то.
-
Про места в автобусе
Ближайшие к водителям места занимают слева сами водители (для отдыха), а справа гид. И всё. Никаких доплат за эти места нет.
-
И снова курс евро
Чувствую, что это минимальные отметки. Сильно ниже не будет. Хотя после того как евро пересек отметку в 40 руб. даже боязно делать прогнозы. Судя по тому, что к доллару он стал расти, то и рубль скоро откликнется. Однако, сам себе верю плохо.